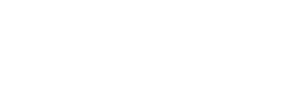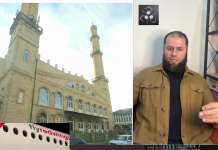пок… пок… пок… пок.. пок.. пок.. пок-пок-пок-пок-покпокпокпокпокпокпок
…вая политика Советского государства создала исключительно благоприятные условия для культурного и экономического развития всех наций и народностей, населяющих нашу страну. Неустанная забота Коммунистической Партии и Советского Правительства положила конец национальному угнетению отсталых ранее окраин бывшей российской империи. И сегодня, в этот знаменательный день, Партия торжественно клянется и обещает всему советскому народу, что не позже, чем…
ти-у-у-у-ф-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-р-р-р-р-р-р-р-р-ш-ш-ш-ш-ш-ш
…lue of total input in american economy – to expand at an annual clip of five per cent or more in the first quarter. President of the United States… бр-р-р-р-р-рпу-у-у… e big surprise in yesterday’s statistics report was the long – awai…
…пх-х-х-х
– А-ла-ла-ла, сегодня мы с тобою, и ты моя, но завтра-а-а-а-а…
– Везде же одно говно, мать твою… – шепчет Рудик Лопатов. Мы с Рудиком сидим в помещении дежурного по связи, примыкающей к оружейке. Я делаю вид, что чищу автомат, а Рудик делает вид, что несет службу по связи. Мы с ним крепко выпили накануне, и сейчас нам очень хочется спать.
Рудик продолжает бесцельно вертеть ручку настройки радиоприемника. У него круглое лицо, опухшее от беспробудного пьянства. Я, наверное, выгляжу не лучше.
з-з-р-р-е-е-у-у-у-у-у-к-ж-ж-ж-ж-ж-б-р-р-р-р-р-р-р-р-ч-х-х-х-х-х-х-у-у-у
…ramparabarman sapamrambasan xyi seorang ebermat kanak kanak berusia tiga tahun, mohd boxes anas rosli xospis, yang-yang maut selepas beberapana hari-hari pizda dirawat akibat digilis tren komputer ketika pezzzdez melintas di landasan kereta api berhampiran stesen suka pantai dalak, birimdik baru-baru ini masih gagal menginsafkan penduduk kawasan berdekatan daripada imam bayaldy birimdik terus seropchik menerus menceroboh laluan kereta. Atyk iebermat!
– Застава, строиться на ХЗР!
Мне пора.
*******
– Кошелев, Найдич, Гетман! Порубка дров и уборка стружек! Время – с десяти ноль ноль до полудня! После исполнения доложить!
– Есть!
– Туркин, Ефремов, Джафаров, Заргарян – на ПТН! Время то же самое!
– И-есть.
– Харабадзе – топка центральной печки, подготовка и уборка бани!
– Эст!
– Петренко, Шмаков – уборка солдатского туалета! Время – то же самое.
– За что?
– А за то.
– За что – за то?
– Р-р-азговорчики в строю! А за все хорошее.
– За что?!
– Обалдел, товарищ солдат? Поори у меня еще…
– За что?!!
– Еще разок вот так вот вякнешь, ублюдок, – будешь у меня щеткой сортир пeдeрасить! – злобно шипит прапорщик Яша. – Щеточкой блин зубной, с платочком на хрен, носовым. Вот это я тебе четко организую.
– Бл… товарищ прапорщик, я этот е… проклятый сортир позавчера уже чистил!
– Что за беда, вычистишь и сегодня. Все, баста, застегнуть хлебальник!
Личный состав пятой погранзаставы стоит, выстроившись на плацу. Это примерно шестьдесят пограничников, не считая начальника заставы, двух его заместителей и двух прапорщиков. Но сейчас нас от силы человек тридцать, не больше. Остальные, как водится, на службе. Несколько солдат в госпитале, один — на выходных, еще двое – в отпуску.
Эх, хорошая это штука – отпуск. Двое суток на дорогу, одиннадцать суток на месте, еще двое суток на обратную дорогу. Пятнадцать суток. Две недели. Половина месяца. Одна сорок восьмая всей службы. Я никогда еще в отпуске не был, да и вряд ли поеду до окончания срока моей службы. Во всяком случае, так мне клятвенно обещал начальник нашей заставы майор Егоров, по прозвищу Вонючий, он же Банщик.
Время – примерно полдесятого утра. Сейчас у нас ответственная процедура – распределение на ХЗР. Хозработам уделяется значительно больше внимания, чем собственно военной подготовке. Во всяком случае, стрельбище мы посещаем не чаще чем раз в два месяца, тактические занятия проводится дай Бог раз в две недели, физическая подготовка у личного состава в самом плачевном состоянии, зато хэзээрим мы каждый день. Это святое.
– Чихладзе, Кошлан – привести в порядок отделение связи! Развели бардак на служебном месте!
– М-м-м… – мычит опухший с похмелья Резо Чихладзе. Ему очень плохо, это видно невооруженным глазом.
– И чтобы я там больше не видел грязных мисок, журналов и прочей херни! Читать газеты и журналы надо в ленкомнате, а жрать – в столовой в отведенное для этого время. Что за люди, разве вам не хочется нести службу в чистоте и порядке?! О Кошлане я не говорю, это тяжелый случай. Я вас спрашиваю, Чихладзе?
– М-м-м… – мычит Резо Чихладзе. Больше всего на свете сейчас ему хочется сблевнуть в кусты.
– Малахов, Жижикин – уборка мусора по всей территории заставы!
– Эх, едить твою мать, нет счастья в жизни…
– Чего?!
– Да ничево. Хорошая погода.
– Охерел совсем, товарищ солдат? Ты кому так отвечаешь? Ты чего сказал?
– А чево? Ничево я не сказал. Я сказал – есть, товарищ прапорщик. Не слышал, да? Во, солдаты подтвердить могут.
В строю сдержанно хихикают. Яша несколько секунд злобно буравит своими свиными глазками-гляделками удивленно-невинное лицо рядового Малахова. Потом шумно втягивает воздух через широкие, как у бегемота, ноздри и говорит:
– Рядовой Малахов, ваше счастье, что я сегодня плохо слышу. Но память у меня хорошая, так и знайте. Я вам припомню еще все ваши мерзости. Так, так… Эристави, Прокопов – зарезка… закол… в общем, товарищи солдаты, надо прирезать свинью, опалить, выпотрошить и подготовить как надо, по полной программе. Всем приказ ясен? Вперед!
Несколько секунд старший прапорщик Яша Мукутадзе злобно смотрит на нас, выпучив свои бычьи глаза. Затем, повернувшись, молча уходит в канцелярию.
– Говно из ушей повынь — лучше слышать будешь… – тихо бормочет про себя Стас Малахов.
Яша не слышит или делает вид, что не слышит. Воротник летней сорочки защитного цвета тесен ему, и вместо затылка между зеленым околышком фуражки и воротничком у него там сплошная красная жирная складка. На ходу он слегка раскачивается и похлопывает себя по могучей ляжке свернутым в трубку списком нарядов. Его необъятный зад плотно обтянут форменными брюками того же цвета, как и сорочка. Большой он мужик, здоровый и плотный. И страшно злопамятный. Хотя, если говорить правду, прапорщик Ярмолинцев по прозвищу Урик еще хуже него – стократ хуже.
Солдаты медленно разбрелись по территории заставы – кто за лопатой, кто за веником, а кто за тазиком со шваброй. Мне тоже нужно добыть для себя инструмент. Это – нож. Желательно подлиннее и поострее. Это мое орудие труда на сегодня.
*******
Хозяйственные работы – это очень важная часть нашей жизни, гораздо важнее собственно военной части. Поддержание чистоты и порядка на военном объекте – это одна сторона медали. Штатная уборщица нам не положена. С другой стороны, хозработы всегда поддерживают занятость личного состава на довольно высоком уровне. Воевать нам здесь, на советско-турецком участке границы практически не с кем. Ну не нападает на нас никто, никому мы на фиг не нужны. Самим нападать – сил таких давно уже не имеем. Да и зачем? Границу защищаем больше не от внешнего, а от внутреннего врага. Он, наш основной враг – это не турки-аскеры за кордоном, и даже не далекие, зажиревшие, комфортабельно укрывшиеся за Атлантикой американцы.
Наш главный супостат – это простой советский гражданин, пытающийся в обход родных советских же властей перебраться на постоянное жительство к нашему военному и идеологическому противнику. Говорят, что самая ответственная служба в войсках – это служба в ракетных частях. Ерунда это все, лажа собачья. Не торчи мы на границе по восьми часов каждый день – все многолетние военно-стратегические усилия этой страны пошли бы коту под хвост. Население СССР уполовинилось бы буквально за год – это как минимум. По гроб должны быть нам благодарны жители западных стран – мы их охраняем от несметных толп наших сограждан. Эх, жаль, что я этого никогда не увижу. Это же было бы нашествие не слабее монгольского. Толпа озверевших гомо советикусов.
Потому и нужды в охране собственных границ у них нет, или почти нет никакой – мы это делаем за них. Восемь часов в обычном режиме охраны границы, и десять-двенадцать при усиленном. Можем и сутки оттянуть, такое тоже бывало. Но даже после службы и выполнения всех положенных ритуалов и прочих телодвижений у солдата все же остается уйма свободного времени. И тут на помощь приходит прапорщик со списком распределения нарядов – заполнить опасный вакуум.
В этот момент прапорщик представляет собой власть большую, чем даже начальник заставы: именно он распределяет наряды, и он же обычно контролирует их выполнение. ХЗР – это удобный инструмент, с помощью которого прапорщик утилизирует свои личные антипатии. Пример: полгода назад Стас Малахов имел неосторожность при свидетелях назвать Яшу говном в фуражке. С тех пор Стас практически не вылезает из заставского сортира, раза два в неделю ходит на кухню кухонным мальчиком и выполняет самую грязную и тяжелую работу на заставе – как я уже сказал, Яша очень злопамятен.
Сегодня нам поручено ответственное задание – зарезать свинью. Уже троим, потому как вдвоем можем не справится. Вначале нас было двое – я да Вовка. Но, посмотрев на свинью, Яша снял Бульбу с другого хозяйственного объекта и прислал к нам в подмогу.
*******
Свинка эта – наша, то есть с нашего, заставского хозяйства. Ее наш свинарь ефрейтор Миша Щетинин, по кличке Миша Скотинин откармливал отходами с кухни целый год, и весом она была никак не меньше двух центнеров. От армейского харча шибко не растолстеешь, но наша свинка так быстро набирала вес, что ефрейтор Скотинин, как победивший в социалистическом соревновании свинарей Закавказского погранокруга, был представлен к награде – медали \”За охрану границы\”, чем очень гордился.
Прибывший на подмогу Бульба воспрял духом. У него, как всегда, свои планы. Остро наточенный кухонный нож я взял на кухне, но Бульба, посмотрев на него, категорически отрубил:
– Не годится. Таким ножичком – тухленькое мясцо образца тридцать восьмого для зольдатиков резать, но никак не свинью для господ офицеров. Что тебе эта свинья плохого сделала? Это же чистое убийство…
Не знаю, как там в других родах войск Красной Армии, но у нас, у пограничников, совершенно особая система – скотина, выкормленная на заставе, там же забитая, опаленная, очищенная, промытая, превращенная в мясо, собирается в центральном холодильнике погранотряда и только потом распределяется опять же по заставам. Во всяком случае, так нас уверяют. Но вот уже полтора года, с момента призыва на службу, я не ел свежего мяса, как и все мои коллеги. Хотя нет, вру. Четыре месяца назад нам все же удалось попробовать свежачка.
Застава наша расположена в полукилометре от железной дороги, и в наши стратегические задачи входит контроль за безпасностью участка длиной в несколько километров. Контроль прежде всего визуальный – за участком наблюдает часовой с семнадцатиметровой вышки. Дальше за железнодорожным полотном присматривают наши соседи – шестая застава. Но я совсем не о том – четыре месяца назад проезжающий по нашему участку поезд сбил годовалую телку, неизвестно каким образом туда попавшую. Часовой на вышке, внимательно следивший за происходящим, немедленно уведомил по телефону дежурного связиста, а связист – пограничный наряд, проводивший в это время проверку участка. Старший наряда сержант Фарзуллаев и рядовой Голтвенко через пять минут были на месте. Крупная рыжая телка была еще жива и тихонько, жалобно мычала. Мгновенно оценив оперативную обстановку на участке, Тофик Фарзуллаев с помощью остро заточенного штык-ножа довершил то, чего не смог сделать машинист поезда.
Но незаметно переместить на заставу погибшую телку, пусть даже по частям, представлялось делом технически невыполнимым. После недолгого колебания было решено уведомить командование погранзаставы в лице Яши, который в это время находился в канцелярии. Выслушав взволнованное сообщение дежурного по заставе, Яша размышлял не очень долго, и через две минуты с заставы на место происшествия рванул наш \”газик\” с поднятой по тревоге группой. Яша лично возглявлял всю операцию, и уже через пару часов обедающие пограничники с удивлением обнаружили у себя в мисках с жидковатым пшенным супом по маленькому кусочку свежего, очень хорошего мяса. После дележки насчастного животного между начальником, его замами и прапорами на нашу долю осталось все же килограммов восемь-десять. Правда, нам оставили то, что поплоше, обрезки да кости. Как не вполне ясно выразился по этому поводу наш политрук капитан Пауков, не положенное по уставу мясо может вызвать разброд в коллективе. До сих пор не знаю, что он хотел этим сказать.
Наше командование располагает широким набором возможностей для изменения в худшую сторону и без того невероятно низкий уровень материального снабжения солдатско-сержантского состава. Один из них – обычное воровство. Все отлично знают, что после заклания свинки прямым ходом попадают в центральный холодильник погранотряда, а оттуда – частично на стол офицерам из штаба, а частично – хозяйственникам, которые ее продают или обменивают.
А я вот лично не далее как позавчера утром разделывал на обед привезенную из погранотряда размороженную баранью тушу, на которой стояла фиолетовая печать – \”1952\”. Мы все жрем мясо, замороженное лет тридцать-тридцать пять тому назад. Но все же – баранина времен позднего сталинизма, пусть даже нечасто и не вдоволь, все же куда лучше воспринимается нашими, повидавшим всякие виды солдатскими организмами, чем свежий харч раннеперестроечного периода – переваренная, слипшаяся серая лапша на комбижире вместо маргарина.
*******
Сходив домой, Урик выдал нам свой личный нож – сверкающий полированный клинок длиной сантиметров в двадцать пять, и очень крепкий. Узкое страшное лезвие, острое как бритва, от кончика ниже к основанию сантиментров на пять – обоюдоострый. Рукоятка крепкая, костяная, потемневшая от времени, украшенная умопомрачительно красивой резьбой. Изображение на рукоятке – средневековый рыцарь на коне, в полном вооружении, очень тонкой работы. Нож был скорее всего, трофейный – вдоль клинка были выгравированы готическими буквами несколько слов, предположительно на старонемецком.
У своих знакомых, особенно в семьях военных, я видел много коллекционных ножей. Среди них попадались разные – старинные прямые грузинские и кривые персидские кинжалы, солдатские ножи, офицерские даггеры, морские кортики, эсэсовские стилеты, даже китайские поясные ножи длиной почти в метр, но подобного красавца мне еще видеть не приходилось. Каким образом такой экземляр попал с старшему прапорщику погранвойск СССР, можно было только предполагать. Черта с два я на его месте такой нож для грязного дела бы выдал…
Так или иначе, нам поручено свинью заколоть, опалить, почистить, выпотрошить, промыть, подготовить к отправке в отряд, на центральный склад. Занятие это не из очень приятных, прямо скажем, но это все же немного лучше, чем сгребать камни или колоть дрова битых два часа, не говоря уже о чистке сортиров. Тут можно поболтать, покурить – посачковать, одним словом.
*********
Свинарник расположен на заднем дворе, за огородом. По соседству с ним расположен курятник, небольшой, десятка на два кур. Куры принадлежат исключительно семейству майора Егорова. Давно я не ел курочки…
– Дай-ка ножичек, посмотреть, – Вовка протянул руку. Он сибиряк, охотник, сын и внук охотников, понимает, разбирается. Он остановился и долго, внимательно рассматривал великолепный нож.
– Интересно, откуда у этого придурка такой тесачок, а? Ты как думаешь? Такой свободно можно обменять на пару \”калачей\”, да какой там – еще приплатят. Совсем уже Урик прибалдел – такой ножичек свиной кровью поганить. Да и то – что с него спрашивать, с мудилы тряпочного…
Бульба тоже долго вертит в руках нож. Мысль у него течет в более практическом русле.
– Таким вот ножичком – да Вонючего с Пауком, да Яшу, и особенно Урика, пидорра г-гнойного, – с удовольствием цедит он, – а также командира, его заместителей, всех особистов и отдельно – сучий политотдел а также долбанный этот парткомитет ихний во главе с этим гондоном Боднаром – всех, всех…
Зубы его слегка оскалены, глаза полуприкрыты. Нет никаких сомнений, что при первой же возможности он применил бы нож по назначению. Костяшки его пальцев, с силой сжимающих рукоятку ножа, побелели. Да, сильно не любит Бульба наше командование. А кто же его любит?
– Дай сюда, – забрал Вовка у него нож, – давай, давай. Ты здесь не один… мы вот, может, тоже… размечтался, б-блин.
– Эх, хорош ножичек. А все-таки я вам скажу, – не хватает в нем чего-то, – Бульба мечтательно улыбается, – да, не хватает. Я даже знаю, чего. Айда, мужики, покурим две минутки, время есть. – Бульба вытащил из кармана своей грязноватой гимнастерки помятую пачку местных сигарет.
– Колек, кастрюльку захватил? – спросил его Вовка.
– А зачем? – недоуменно посмотрел на него Бульба.
– Как зачем? А кровь? Забыл?!
– А-а-а, блин… сейчас. – Бульба, озираясь, бысто пошел к жилому помещению.
Было чуть больше десяти часов утра. Солнце медленно выползло из-за большой свинцово-серой тучи и начало понемногу припекать. Становилось душно. Из расположенного неподалеку приземистого, бетонного, покрашеного в желтый цвет заставского сортира до нас доносились звуки небольшой словесной перепалки. Голос Миши Петренко сердито увещевал: \”Не так, не так, балда ты такая. Скоро год как служишь, а ни хрена не умеешь, Господи прости. Не учили тебя в детском саду? Надо сперва говно па-а-алочкой в отверстие сбросить, очко хорошенько пошерудить по краям, а потом уже поливать из шланга. А ты прям струей да на кучу… брызгает же на сапоги, не видишь?!\”. \”Не нравится как я делаю – сам убирай,\” – слышалось в ответ, – \”я им, этим сукам…\” – конец фразы потонул в неразборчивом бормотании. Мы с Вовкой молча докурили и направились на свинарник.
*********
Свинья была огромна. Она была покрыта густой щетиной, слипшейся от серой, вечной грязи. Когда мы приоткрыли калитку на свинарник и потихоньку вошли, она жрала – жирно и смачно чавкала и хрумкала, не подозревая, что к ней в эту самую минуту приближалась неотвратимая смерть. Смерть – это я и Вовка.
Мне раньше изредка приходилось резать баранов и кур – в основном на пикниках за городом или в помошь друзьям или родственникам на свадьбах или поминках. Всякое бывало. Но бараны на нож реагировали чутко – прыгали, блеяли, отбегали настолько, насколько позволяла веревка. Нервничали, одним словом. Даже безмозглые куры – и те, казалось, понимали в чем дело. Неужели эта огромная глыба жирной плоти не чувствует, зачем мы пришли? Нет, нет, она чавкает, пожирая какие-то густые серые помои из глубокого склизкого, грязного корыта. Интересно посмотреть на живое существо, которое через несколько минут будет большой грудой мяса. Даже если это всего лишь свинья.
Сейчас самое главное – ее не испугать. Испугаешь – очень трудно будет потом зайти ей в тыл. Да и клыки у нее совсем не слабые. Прибегает запыхавшийся Бульба с мокрой алюминиевой кастрюлькой в грязных руках. Рукава у него засучены. Тихо переговорив, мы начинаем действовать. Неторопливо, очень медленно, мы занимаем круговую позицию вокруг нашей жертвы. Мы не спешим. Спешить нам абсолютно некуда.
Наконец, для убийства все готово. Вовка, незаметно зашедший свинье в тыл, схватил ее за задние ноги и резко дернул на себя и в сторону. В ту же секунду я ухватил ее огромные уши и изо всех сил дернул в противоположную сторону, а Бульба, отпихнув корыто и быстро присев, подсек обутой в кирзу ногой ее передние ноги. Свинья всеми двумя центнерами грохнулась на землю, обдав мои сапоги мерзкой жижицей и чуть не отдавив Вовке правую ногу. Пронзительный визг резнул наши барабанные перепонки.
Все произошло очень быстро и очень просто. Вовка не ударил, не всадил, не резанул, а просто сунул сверкающее полированное лезвие свинье туда, где горло невидимо переходит в грудь. Свинья дико визжала, вкладывая в этот визг и рев всю силу своего огромного и могучего тела. Острие жуткого ножа коснулось поверхности грязной, поросшей серой щетиной кожи. В этот момент время как бы остановилось.
Мне почему-то захотелось, чтобы этого не произошло. На мгновение я испытал мимолетную жалость к несчастной свинюшке. Если Вовка сейчас остановит свою руку, то ничего не произойдет и обреченное живое существо перестанет быть обреченным. Оно не умрет через несколько секунд. Мне рассказывали, как казнят в американских тюрьмах: смертника ведут на казнь несколько вооруженных охранников, один из них идет впереди группы и через каждые десять-пятнадцать шагов громко объявляет: \”Дорогу! Мертвый человек идет!\” Мертвый – это независимо от того, что казнимый еще жив, вполне здоров, молод и при других обстоятельствах мог бы еще прожить хренову уйму лет.
И все ж таки он – уже покойник. Думать, что это не так, думать, что он жив, потому как приговоренный еще мыслит, дышит, потому что все еще учащенно бьется его сердце и бежит кровь по сосудам – это большая ошибка, которая буквально через несколько минут будет исправлена системой, приговорившей его. А остановить или спонтанно изменить систему, ее структуру – возможно ли это? Если да, то в принципе возможно и многое другое…
Грязная кожа на жирном, заросшем щетиной горле на мгновение прогнулась внутрь по нажимом острия и, лопнув, разошлась. Лезвие рванулось в эту щель, разрезая и разрывая артерии, вены, капилляры, нервы и мышцы, и исчезло в ней. Рукоятка с глухим мягким стуком наткнулась на края раны. Вовка, будто хлеб нарезая, трижды сделал движение рукой от локтя. Раздался какой-то жирный, мокрый хруст и пронзительный визг мгновенно превратился в хрипение и бульканье. Все, кончилось. Вовка выдернул нож, и на мгновение обширная резаная рана с трепещущими краями предстала перед нашими глазами. Потом из раны ударил фонтан крови. Подождав несколько секунд, Бульба подставил кастрюльку, Вовка навалился свинье на бок, и мощный пульсирующий поток устремился в посудину.
Что и говорить, Вовка отлично справился со своим делом. И, несмотря на то, что все произошло именно так, как и должно было произойти, я все же чувствую что-то вроде легкого разочарования.
*********
Свинья мертва. Она лежит в своем загончике, огромная, грязная, окровавленная. Небольшие лужицы крови около нее уже подернулись легким светлым перламутром. Ее конечности все еще вздрагивают, но все земные проблемы для нее уже позади. Прирезать – очень образное выражение.
– Отмучилась. – Вовка сплевывает на землю. – Ой, блин, сейчас руки до вечера вонять будут, а горячей воды ни Боже мой.
– Ничего, – говорю, – холодной помоешь…
Бульба показывает мне окровавленный нож.
– Вот чего здесь не хватало, – подходя ко мне и смеясь, говорит он, – крови! Теперь – все в порядке, ништяк! Слушай, ты часом, не видел, откуда Урик ножичек приволок? – тихо, с надеждой спрашивает он меня, – со склада взял или из дому?
– Из дому, кажется.
– А – а – а, долбанный м-м-мудак… – Бульба досадливо морщится, разочарованно машет рукой и уходит на кухню.
Я промыл окровавленное лезвие под краном и тщательно вытер сухим куском тряпки для протирки оружия. Несмотря на то, что нож принадлежит Урику, я совсем не хочу, чтобы он заржавел. Нужно отдать его хозяину, и поскорее. Молва о прекрасном ноже быстро распространилась по всей заставе и ко мне косячками идут пограничники – посмотреть, поахать, поохать, повосхищаться. Но надо следить в оба, чтобы какой-нибудь особо ревностный ценитель не прихватил бы его на память. Забота о сохранности ножа поручена мне, и отвечать в случае чего – тоже мне.
Рядом со мной голый до пояса Вовка моется под краном. Обильно намылив коротко стриженную красивую голову, он затем смывает пену сильной холодной струей из под крана. Он довольно фыркает и улыбается мне: хорошо! Его движения скупы и экономны, его крепкая, ловкая фигура дышит спокойной силой и уверенностью в себе. Все, за что он ни берется, он делает быстро, аккуратно и умело. Когда он резал свинью – наверняка не думал ни о системе, ни об ее структуре. Не думал он и о казнимых в Америке, и уж во всяком случае не проводил никаких параллелей между приговоренным к смертной казни и обычной свиньей, предназначенной на мясо. Он делал это дело так, как он делал любое другое – сосредоточенно, добросовестно, не думая ни о чем другом. Ему и не надо было думать о какой-либо системе, потому что он сам является частью системы – простой, прочной как сталь и абсолютно неумолимой.
*******
– Как можно жрать это говно, я не понимаю, – мрачно выдавил из себя Имран Мамадаев. Он закурил и дал сигарету мне.
– Во первых – свинья, во-вторых – кровь ее поганая. Я понимаю – когда есть нечего, а вот так чтобы, добровольно… когда у нас режут скотину или домашнюю птицу, так человек, который это делает, следит, чтобы кровь ушла в первую очередь. А что, в Грузии кровь едят?
Имран – чеченец. Родом он из какого-то горного аула, на границе с Ингушетией, хотя последние несколько лет живет в Грозном. Это сдержанный, немногословный парень атлетического сложения. Держится он с большим достоинством, несмотря на малый рост – он едва достает мне до подбородка. Он старше меня года на три или четыре, в армии после института. Он по образованию инженер-строитель. По моему, это полный кретинизм – призывать в армию рядовыми солдатами специалистов с высшим образованием. Но, как мне уже приходилось убеждаться не раз и не два, многие вещи в Советском Союзе делаются, мягко говоря, без учета эффективности конечного результата.
– У нас? М-м-м, вроде бы нет… – промычал я и, мысленно перебрав все знакомые мне грузинские блюда, уверенно добавил, – нет, не едят. Точно не едят. Но свинину – очень даже.
– Простое мясо есть нельзя, – вдруг с глубоким убеждением сказал Имран, – нельзя ни в коем случае. Мясо, в котором кровь остается – нечистое.
– Почему нечистое? Больное, что ли?
Имран ответил не сразу. Глубоко затянувшись, он щелчком отбросил окурок далеко на урез1. Сплюнув, он неторопливо проговорил:
– По соседству с нами жил один старик. Очень старый был – больше ста лет ему было. Говорили, до этого он жил в Сирии и Египте, а потом переселился обратно к себе в аул, еще до революции, – Имран говорил тихо, неторопливо, как будто разговаривал сам с собой, – жену себе привез оттуда же, из Сирии. Жена его умерла, еще до большого переселения в сорок четвертом, и с тех пор он жил один. Так и не женился во второй раз. Шейх Али – так его звали люди. Его тоже переселили, вместе со всеми, но он тайно вернулся через несколько лет. Как – никто не знает. Люди говорили, что он много людей спас там, в ссылке. Так вот к ниму люди приходили не только с соседних аулов, но и из Дагестана, Осетии, Ингушетии, – посоветоваться, поговорить. Он всегда помогал, объяснял — законы, обычаи, советы давал. – Имран замолк и закурил новую сигарету.
– Ну и что он говорил, твой старец?
– А то и говорил, что когда режешь животное, помолиться надо сперва. И успокоить животное надо, приласкать, утихомирить. Прощения попросить, за то что убиваешь. И последить, чтобы вся кровь из зарезанного животного вышла сразу же, – обычно малоразговорчивый и скрытный, Имран говорил теперь необычно много для него, – специальный человек это у нас делает, у кого разрешение на это есть.
– А без разрешения нельзя?
– Никак. Люди тоже спрашивали, почему же кровь нельзя есть? Так написано, но многие интересовались. В общем, та кровь, которая остается в теле, всегда несет в себе все, что животное чувствует или думает перед смертью. Страх, ужас, знаешь… теперь понятно, почему такое мясо есть нельзя? Нечистое оно. Такое мясо продают в русские деревни. Они покупают, им все равно. Не говоря уже о крови… ясно?
– Интересно. А где он работал, старец? Чем жил?
– Да нигде не работал. Учил детей Корану, арабскому учил, исцелял больных, советы давал, да мало ли. И никогда не брал никакой платы.
– Как – не брал? Человеку есть надо, одеваться надо, и вообще…
– Местные жители ему все приносили. Корзинами всякое добро таскали. А он – возьмет немного еды, и все. Так и забирали все назад. Одна женщина к нему ходила, по хозяйству помогала – постирать там, убрать, приготовить. Без женщины в хозяйстве – сам знаешь, как. Вот так и жил.
– А ты с ним говорил когда – нибудь?
– Говорил иногда…
Последние несколько дней Имран ведет себя странно. Он и так малообщительный, а неделю назад вообще полностью замкнулся в себе. Видимо, что-то случилось у него дома, да и мало ли, что может быть. Но тут он разговорился. Прорвало вдруг человека. Это бывает.
У Имрана был друг на заставе – кабардинец Муса Торчинов. Высокий, худощавый, с орлиным носом, он был еще более молчалив и сдержан, чем Имран. Но дружили они крепко – так, как могут дружить только кавказские горцы. Их связывало что-то очень крепкое, какая-то неизвестная мне идея. При мне они об этом особо не говорили, а я никогда не спрашивал. Два месяца назад Муса уволился и уехал домой. С тех пор Имран ни с кем особо не сближался. Шура Литвинов, Мераб да я – вот примерный круг его общения.
– И он все еще помогает людям?
– Нет. Месяц вот уже как умер. Письмо я получил от сестры, неделю назад.
Имран курит. Лицо у него, как всегда, непроницаемое. Но что-то новое чудится мне в его молчании. Или это мне просто мерещится? Вообще со мной тоже в последнее время что-то происходит. Я стал обращать внимание на такие вещи, к которым раньше был совершенно равнодушен. Например, старец Али. Месяца три-четыре назад я пропустил бы упоминание о нем мимо ушей. Ну старец и старец, подумаешь. А теперь – нет. Одновременно с этим я почувствовал странное, необъяснимое, противоречивое желание подразнить, оскорбить Имрана. На меня иногда находит – в самые неожиданные моменты.
Неделю назад к нам на заставу приезжал с проверкой и докладом начальник политотдела отряда – полковник Менжинский. После проверки мы всем составом собрались в ленинской комнате послушать, что же происходит сегодня на планете. Менжинский речь свою вел слаженно и гладко, фразы были у него закругленные, весомые и очень убедительные. Слушая его, прямо-таки физически ощущалось, что мы – держава миролюбивая и что действительно единственно возможным выбором народа в наших условиях мог бы быть социализм советского типа. Глядя на его холеное, хорошо выбритое лицо, слушая его красивый, звучный голос, мне вдруг мучительно захотелось наклониться, неторопливо стянуть с ноги сапог, выпрямиться, размахнуться и изо всех сил запустить им в лицо полковника. Без видимой причины совершенно – просто любопытно было узнать, как же он отреагирует на это и что вообще будет потом. Это чувство меня преследовало в течение всей лекции так, что я себя с трудом сдерживал. И вот сейчас… кажется, я все же не совсем нормальный…
– Послушай, Имран, – спросил я его, – а почему ты думаешь, что он знал именно то, что он знал? И то, что он знал – правда, а не просто труха? Каждый любит святым прикидываться. А копнешь вот поглубже – и наткнешься на гниль. А?
– Что? – удивленно переспросил меня Имран, – ты сказал – труха? Ты сказал – гниль?
– Ну да. Знаешь, бывает такое – человек прикидывается святым, а на самом деле может оказаться аферистом, может даже мерзавцем. – И совсем неожиданно для самого себя я вдруг добавил: – Помню, поймали в восьмидесятом году у нас одного священника, который молоденьких девочек растлевал. Что ты мне на это скажешь?
Некоторое время Имран молча курил. Затем он пристально, не мигая, посмотрел мне в глаза.
– Ты знаешь, Давид, я не думаю, чтобы ты был таким же идиотом или сволочью, как остальные. Я думаю, что ты просто сильно ошибаешься по жизни. Это бывает. Потому я и скажу сейчас тебе кое-что.
– Вот ты сомневаешься в правдивости человека, которого ты ни разу в жизни не видел, в деле, о котором ты не имеешь ни малейшего понятия. Человека, который старше тебя на три поколения и мудрее на десять поколений, – Имран вплотную подошел ко мне, – и сравниваешь его с говнюком в рясе, трахающим малолетних. А скажи мне – что ты знаешь об этой жизни? Ты можешь мне хотя бы в общем обрисовать – что же это такое? А?! – Имран внезапно побледнел, голубые глаза его засверкали. – Что ты знаешь о том, как живет этот мир? Почему в сутках двадцать четыре часа, а не тридцать восемь? Почему человек рождается, как он живет, как подыхает, почему он такой, какой он есть и что за этим всем стоит? И зачем вообще человек приходит в этот вонючий мир? Что такое судьба и почему исполняются предсказания? Что такое душа и с чем ее хавают?! Что такое жизнь и что такое смерть, и куда ты попадешь после нее? Ты конечно, никогда не думал об этом. Тебе и не нужно было об этом думать, потому как тебя с детства все учили совсем другому. И научили. Одно я могу тебе сказать – никогда не пачкай то, о чем не имеешь ни малейшего представления. Ни малейшего, понимаешь?
Я остолбенел от неожиданности. Это были те самые вещи, которые меня давно и мучительно интересовали, чем я ни с кем никогда не делился. Крутой поворот нашей беседы, резкая отповедь, странно переплетающаяся с манерой разговора Имрана – все эти вещи вызвали во мне вихрь противоречивых чувств. Я ничего не мог сказать в ответ, а просто молчал и старался понять услышанное. Я никак не предполагал что Имран может знать это.
– Я тебе это все сказал потому, чтобы ты знал, – Имран снова заговорил, но уже значительно мягче, – что в этой жизни не все так, как люди привыкли считать. Вещи в действительности не совсем такие, какими они кажутся, и дважды два – тоже не всегда четыре.
– Как?
– А вот так. – Усмехнувшись, ответил Имран. – И… короче, нельзя кровь жрать, особенно свиную, вот и все. Понятно, товарищ солдат?
– Ясно, нельзя. Так вот и ты свинину хаваешь, вместе со всеми, тоже мне святой! – Насмешливо выпалил незаментно подошедший Амиран Тугуши.
– А что, мне какое-то другое мясо предлагают? – резко повернулся к нему Имран, – что есть, то и жрем – армия…
– Подожди, подожди, а дальше что? – спросил я у Имрана.
– Что – дальше? Вот и все, что тебе еще. – Имран бросил окурок и резко повернулся на каблуках, явно собираясь уходить.
– Подожди, ну что еще старец говорил по этому поводу?
– Ничего больше он не говорил. – на ходу бросил Имран.
– Чего это он окрысился? – Амиран удивленно посмотрел Имрану вслед, – шутки не понимает, охренел он совсем, что ли?
– Не знаю…
Т-твою мать. Имран всерьез обиделся на насмешку, и теперь до конца вряд ли когда расскажет. А то, что он знает много интересного в этой области – нет у меня в этом никаких сомнений. И, как назло, Амирана угораздило припереться сюда именно сейчас. Теперь Имрана сто лет не разговоришь – обидчивый. Черт бы побрал Амирана вместе с его идиотскими шуточками и подколками. Кретин. Мне хочется это ему сказать, обругать его, ударить, но сдержавшись, вместо этого я говорю, стараясь быть спокойным:
– Обиделся, конечно. Он же мусульманин. Видимо, это вынужденное пожирание свининки ему – как серпом по яйцам. А ты ему тоже своей шуточкой – как раз серпом и как раз по тому месту.
– А мне по фиг, знаешь ли, пусть холодной водички попьет, вон полная канава стоит. – Холодно и независимо парирует Амиран.
Я опять сдерживаюсь. Вообще-то мы с ним в хороших отношениях, да и ссориться с земляком в армии вряд ли стоит, а по такому поводу – и подавно. Никто из наших не поймет и не примет мою точку зрения. По грузинским понятиям такая причина – пшик. Подумаешь, скажут, большое дело – чеченца обидел…
Отряхнув сапоги от грязи на железной подставке у входа, я вошел в помещение заставы. Время приближалось к ужину, и \”молодые\” спешили закончить ХЗР вовремя. Рядовые Андреев и Рябков, управившись с работой своих \”дедов-опекунов\”, теперь заканчивали свою долю работы. Они старательно мыли светло-голубой пол в коридоре, терли его изо всех сил – работа должна была быть сделана в срок и качественно. Качественно! Если Урик не примет работу, придется начинать все с самого начала. А это – неизбежная задержка на построение, на ужин. А оказаться причиной задержки ужина – не приведи, Господи. Быть жестоко избитым ногами в живот после отбоя никому не хотелось. Грязный пот с их измученных лиц капал на чисто вымытый голубой линолеум.
На кухне опять дежурил Гриша Деркач. Он сидел около плиты, покуривая и время от времени отхлебывал чай из своей синей \”дембельской\” кружки. Вовка вывалил из кастрюльки свернувшуюся свиную кровь на глубокий квадратный противень с кипящим комбижиром и жарил ее, обмениваясь замечаниями с Деркачом по поводу новой отрядской \”параши\”. \”Параша\”, она же \”бандеролька\”, она же новость, заключалась в том, что осенний призыв тысяча девятьсот восемьдесят пятого года будут увольнять никак не раньше декабря восемьдесят седьмого – начала января восемьдесят восьмого.
– Вот \”шурупов2\” поувольняют нормально, самое позднее – в середине октября. Эх, блин, нет в жизни счастья. Перцем ее, Вовчик, перцем. И побольше. И не соли ее, она и так соленая. Где ты, где, моя гражда-а-анка? – Громко и немузыкально пропел Бульба. Он блаженствовал. С сигаретой в зубах, раскрасневшийся от кружки чая и тепла горячей плитки, с расстегнутой почти до пупа гимнастеркой и ремнем, свисавшим до ширинки, он являл собой воплощение армейской залихватской свободы и приблатненности.
– Знаю, не зуди, – Вовка суетился около печки, переворачивая лопаточкой поджаренную уже кровь, – мы ученые, так что попрошу…
**********
– Держи, – Вовка сунул мне в руку глубокую тарелку, наполненную дымящейся сероватой массой и два толстых ломтя белого хлеба, – твоя доля. Вот мясцом свежим угостить не могу, сам не имею, за что извиняюсь от души. Не побрезгуй, человече…
Я попробовал кусочек жирной сероватой, соленой массы. То ли я действительно не был по-настоящему голоден, то ли слова Имрана запали мне в душу, но есть кровь я не смог. Резкий характерный запах и привкус этой пищи были мне неприятны. С трудом проглотив кусочек, немедленно вызвавший у меня спазмы в желудке, я отдал свою порцию марийцу Рябкову, оставив хлеб себе. Сначала он не понял меня, а потом, поняв, улыбнулся благодарно и чуть затравленно. И немедленно принялся уписывать неожиданное угощение. Я поймал на себе косой, недоуменный взгляд Вовки. Или мне так показалось?
Наблюдая, как голодный первогодок с жадностью поедает горячее месиво, я внезапно почувствовал что-то вроде угрызений совести. А вот интересно, если бы вместо этих серых неаппетитных комков на тарелке был шашлык из парной баранины или еще какая-нибудь хорошая, вкусная еда, поделился бы я с Рябковым или нет?
Да нет, ни хрена бы не не поделился. С любым из своих друзей – о чем речь, но с зачуханным салабоном… ага, вот так-то. Эх, люблю я себе задавать провокационные вопросы. Имею такую дурацкую привычку. А вообще-то, если разобраться, то это не совсем я, а кто-то другой, маленький и зловредный, кто сидит глубоко внутри и дает знать о себе совсем неожиданно. Выпрыгивает резко так наружу, как чертик из коробочки. Кажется, это называется совестью. А может – дуростью?
Взять хотя бы того же самого Вовку – для него в этом мире все гораздо проще, намного определеннее. В его видении вещей Рябков и ему подобные должны тяжко вкалывать и жрать урезанную пайку – зарабатывать себе право на вольготную жизнь на втором году службы. Может быть, он и прав – именно здесь и именно сейчас. Он защищает систему, он – ее часть, активная часть. Такими система живет. Он, может, так и не считает на самом деле, но виду никогда не покажет – хитер Вовка, как матерый лис.
Можешь встать над системой, попереть против – делай (похороны – за свой счет), нет – лежи в дерьме и не вякай. Здесь такая мораль, так заведено десятилетиями. И то сказать – не станет рядовой Алексей Рябков другим человеком, если даже с завтрашнего дня старослужащие начнут относиться к нему как к равному. Останется таким же чумоходом, каким и был, а вот если изменится – так только в худшую сторону. Такому забитому да сирому только волю дай – завтра он тебе же свой грязный кирзовый сапог на грудь поставит. Из таких вот робких, несчастненьких мальчиков и вырастают самые что ни есть бешеные \”деды\” – злобные, изобретательные, холодно-безжалостные.
Не знаю почему, но у меня вдруг испортилось настроение. Может, из-за мыслей о Рябкове. Или, может быть потому, что я устал, не выспался сегодня ночью? А, к чертовой матери, лучше не думать ни о чем, до самого дембеля. Так жить легче.
Быстро закончив свой ужин, я вышел из столовой в полутемный коридор. Фотографии натовских наемников на агитационном стенде, с широко разинутыми в беззвучном крике запекшимися черными ртами, усатый нарком Дыбенко и знатный следопыт Карацупа. Вестник погранвойск. Коммунистическая партия неустанно заботится. \”Человек – это звучит гордо!\”
Мимо выхода в основной коридор, мимо второго \’\’кубрика\’\’ и ленкомнаты я добрался до нашего спального помещения. Там никого не было. Полы были чисто вымыты одним из первогодков и табуретки аккуратно вставлены ножками в металлические решетки кроватей. Даже тяжелого солдатского запаха в комнате больше не было, а пахло чистотой. Временно, конечно. Чистота, порядок и отсутствие запаха в казарме – это явление временное…
Опустив шторы и стащив сапоги, я прилег на свою кровать. Вообще-то я никогда этого не делаю из соображений безопасности, но сейчас мне захотелось немного полежать по-человечески. До вечернего боевого расчета оставалось минут пятнадцать, и в это время никто из начальства не мог нагрянуть с контрольным визитом. В \”кубрике\” было темно, прохладно и очень хорошо. Не хотелось думать об армейской жизни, о тысячу раз осточертевшей бессмысленной, идиотской службе – неизвестно кому и неизвестно зачем, о садистах-начальниках, лишивших и без того нелегкую солдатскую жизнь последних радостей. И о \”боевых товарищах\” тоже… особенно вспоминать широко открытые от удивления серо-голубые глаза Рябкова, его затравленную улыбку. Это же надо – благодарен, как голодная приблудная собака, которой бросили кость. А за что? За то, что я отдал ему за ненадобностью тарелку горячей крепкосоленой дряни, которую сам сожрать не смог, побрезговал… а?!
Я пытаюсь думать о чем-то другом. Стараюсь вспомнить, о чем же я не успел спросить Имрана. Но мысли у меня начинают мешаться. Этой ночью мне удалось поспать часа три, не больше. Хорошо бы вот сейчас заснуть, заснуть крепким, беспробудным, а еще лучше – летаргическим сном, и спать, спать, спать… и не просыпаться долго, очень долго – до самого дембеля. Но где гарантия, что сволочное начальство не заставит меня вновь отслужить время, потраченное на сон? Нет у меня такой гарантии. Да и не бывает таких вещей, никогда не бывает. Ни-и-ко-о-гда.
А вот бывает в жизни совсем другое – прирезанная свинья, белесой грудой лежащая в отвратительной жиже из крови, грязи и помоев, и еще багровая до синевы, откормленная, зверино-наглая морда прапорщика Яши Мукутадзе, глаза затюканного до потери человеческого облика солдата Рябкова, скудная, плохо приготовленная солдатская жратва, чай из заставского котла, цветом, запахом и вкусом напоминающий густо заваренный старый домашний веник, бесконечные ночные дозоры, секреты и посты технического наблюдения, ПВР, неуклонное загнивание Запада с нескончаемыми серыми толпами безработных и воткнувшимися в грязно-желтое небо покривившимися черными небоскребами, многократно, до дыр использованный презерватив и крепкий раствор марганцовки, беззаветная преданность, дешевые крепкие сигареты, вечная, неистребимая вонь заставского сортира, редкие, по-собачьему торопливые и неудобные соития со случайными девками под кустом или на ночном урезе, политика компартии, грязь от сапог на ступеньках, замполит Пауков, ХЗР, возвратный триппер, пламенная любовь к Родине, нарком Дыбенко с лицом дебила и шесть месяцев службы впереди. А еще есть в этой жизни громовой топот солдатских сапог и хриплый голос старшего сержанта Туркина. Застава, стрр-р-о-о-оиться-а!
Больше ничего в этом мире нет. И, как мне иногда уже начинает мерещиться, не было. И никогда не будет.
Застава строится на вечернюю поверку и боевой расчет. Это значит – кончился мой короткий отдых. Поднимаемся с кроватки и – в строй! В строй, в строй, в строй. \”Вашу мать, сволочи\” – шепчу я, непонятно кому адресуясь.
Приводя себя в порядок, я твердо решаю: надо все-таки расспросить Имрана поподробнее, несмотря ни на что – ни на какие обиды, разногласия или что-нибудь еще. Ухитриться, изловчиться, прыгнуть выше головы – но узнать, узнать у него как можно больше о том, о чем он недоговорил сегодня в полдень на урезе. Иначе я буду жалеть об этом всю жизнь. Но я обязательно узнаю это у него. Обязательно!
От принятого решения мною вдруг овладело чувство непонятной свободы и легкости. На мгновение мне показалось, что я вижу что-то неуловимое и вместе с тем вполне реальное. То, что незримо движется параллельно течению обычной жизни, такой, какой мы ее знаем – полной грязи, лжи и мерзостей. Не знаю почему, но сейчас я был твердо уверен: именно через это может открыться дорога к пониманию мной чего-то очень большого, очень важного…
Денька через три-четыре обида у него отойдет, забудется. В сущности, он неплохой парень, спокойный и совсем незлой. Просто слишком много в нем гордости и специфического, истинно чеченского форсу. Кажется, дежурим мы вместе ночью на Мерветском мосту, как раз на этой неделе. Тогда и поговорим без помех. Тихая, спокойная ночь, пара глотков коньяка из потайной фляжки, сигарета – все, что надо для такого разговора. Но паренек он самолюбивый, ничего не скажешь. Хотя попробуй не обидеться, когда тебя – серпом по самому дорогому, самому болезненному…
Портянки намотаны, сапоги натянуты. Я встаю, одергиваю смятое покрывало, поправляю ремень. Усталости как не бывало и я знаю, что причиной этому – только что принятое мной решение.
Фуражку на голову, и – вперед. Боевой расчет – совсем не шутка. Посмотрим, куда же меня распределили на последующие сутки. Может, выходной дадут? Маловероятно. Ночным поваром? Это уже теплей.
Так или иначе, завершился по расписанию еще один день.
Один день моей солдатской жизни.
Ну и черт с ним…
Примечания:
Урез – берег моря, реки, озера или иного водоема на армейском жаргоне.
Шурупы – оскорбительная кличка, используемая служащими пограничных войск КГБ СССР по отношению солдат других родов войск.
ПТН – пост технического наблюдения.
ХЗР – хозяйственные работы.
Давид Ансари
Коллаж newcaucasus.com