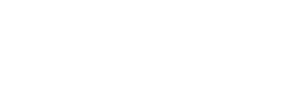Ануна Букия – молодая режиссер, беженка из Абхазии, недавно побывавшая в родном краю. Там, впервые за много лет, она смогла приблизиться к дому, в котором родилась, провела детские годы, и который пришлось оставить в спешке во время войны. Сейчас в ее родных стенах живут чужие люди, они пользуются вещами семьи Ануны, и не рады видеть прежних, изгнанных оттуда, хозяев. Война в Абхазии, послевоенный период и судьба грузин, оставшихся за линией разделения, отражены в ее новом фильме «Я переплыла Ингури». Ингури – река, вдоль которой проходит административная граница с Абхазией. В интервью Newcaucasus Ануна рассказывает о фильме, его идее, и том, как война изменила жизни тысяч людей.
– Расскажи, как появилась идея снять этот фильм?
– Мне было 13 лет, когда я впервые приняла участие в грузино-абхазской встрече. Она состоялась благодаря неправительственной организации, возглавляемой моей матерью. С тех пор я постоянно работаю в этом направлении, участвую в разных форумах, во встречах разного формата.
Идея фильма появилась после того как я вернулась (в Грузию) из Москвы, где я жила и училась два года. Как-то я вместе с группой поехала в регион Сванети, и когда мы там прогуливались, одна девочка присела на берегу реки Ингури и начала будто бы разговаривать с водой, что-то нашептывала. Мы все удивились. Я подошла ближе, услышала ее речь, она говорила реке: «Ты такая стремительная, страшная, несчастная, но в то же время ты – моя спасительница». Это было очень эмоционально…
Я много слышала о том, как люди пересекают административную границу с Абхазией по реке Ингури. Но именно в тот момент я поняла, что все намного сложнее, чем могло казаться. Тогда же я начала думать о своем фильме. Это был 2013-ый год. Я понимала, что пришло время заняться фильмом, ведь многие вещи, связанные с переходом людей через окуппированную линию со временем могли измениться. И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что мне удалось не упустить время, ведь сейчас работать на административной границе, даже просто оказаться там намного сложнее. Так возникла идея фильма. Хочу сказать, что я довольно критично и скептически отношусь к формату «сухого» диалога между конфликтующими сторонами. Подобные форматы не работают, потому что человеческие истории, эмоции в таком случае зачастую теряются. Также для меня неприемлемо то, что проблема конфликтных регионов отходит на второй план, хотя, я понимаю, что в стране есть много других проблем. Все это вместе переросло в какой-то протест и взорвалось во мне в виде фильма, который частично представляет из себя манифест нигилизму, свойственненному людям, участвующим или не участвующим в процессе преодоления конфликта, к тем беженцам, которые воюют до сегодняшнего дня.
– Фильм – это больше воспоминания о прошлом, картина, отражающая сегодняшнюю ситуацию на административной границе, или это рассказ и впечатления девушки, которой удалось побывать по ту сторону колючей проволоки?
– Этот фильм о том, как в будущем может сложиться жизнь любого беженца. О том, что может ожидать пострадавших от войны людей через 20-30 лет, будь это Украина, Сирия, любая точка, где гибнут сотни и тысячи человек. Я думаю, если ты – жертва конфликта, то это до конца твоей жизни, просто в разные этапы жизни мы по-разному относимся к этому, но та печаль и боль, которые оставляет после себя война, остаются с тобой на всю жизнь. Особенно это чувствуется, когда государственная политика в вопросе интеграции беженцев в общество откровенно слаба, когда эмоции не угасают, и в итоге получается – несколько десятков тысяч человек до сих пор варятся в одном котле. Прошло столько лет, а люди все еще будто на войне. И трудно сказать, что сложнее: прожить год на войне под обстрелами, или прожить 24 года без кровопролития, но при этом каждый день борясь за свои права, за свое место под солнцем.
– Как ты смогла попасть в Абхазию?
– Я много лет мечтала вернуться в Абхазию. Я внутренне протестовала: почему я должна ехать туда при помощи гуманитарной миссии, ведь я оттуда, я родилась там, это мой дом, а чтобы поехать домой, ты ведь не должна ни у кого просить разрешения. Потом в моей жизни произошли некоторые изменения, которые способствовали ускорению моего решения. Я решилась пересечь административную границу и отыскать свой дом. Так, в 2015-ом году я оказалась в Абхазии. Не думаю, что люди там видели во мне журналиста. В принципе, журналистом я была до того, как начала снимать этот фильм. Я превратилась в документалиста. Это дает мне больше возможностей, и, главное, я могу быть с теми людьми, которые мне интересны.
– Как люди относились к тебе, когда узнавали, что ты грузинка? Или это было «секретом»?
– Я почти ни с кем не контактировала, никому не рассказывала о своем путешествии, я не знала, какая у людей может быть реакция. Хотя, было понятно, что мы не местные. Думаю, мы отличались. Мне кажется, нынешнее поколение абхазов и грузин очень отличается друг от друга. Хотя, старшее поколение абхазов очень похоже на моих родственников. У меня было чувство, что на улицах Сухуми я вижу других абхазов, не таких, каких я знаю в Тбилиси или в других городах и странах. Абхазское общество мне показалось закрытым, где права человека хоть и декларируются законом, но равноправия не наблюдается. Меня до сих пор беспокоит вопрос: неужели там и здесь все настолько отличается? Я все еще продолжаю наблюдать за этим.
– Ты упомянула, что была и в Гали, и в Сухуми. Как бы ты оценила ситуацию, насколько различается жизнь в Сухуми и в Гали?
– Как только переедешь Ингури, то сразу же сталкиваешься с первым ощущением: гробовая тишина. Прекрасная цветущая природа, яркие краски, блгоухание ароматов и…почти звенящая тишина. Наиболее тяжелые ощущения меня посетили именно в центре Гали. Я находилась там всего несколько часов, потому многого рассказать не могу. Но мне постоянно казалось, что пристально следят, я все ждала, что кто-то подойдет и попытается заговорить. Бросилась в глаза группа подростков, которые разговаривали друг с другом на мегрельском и русском. Это мне не показалось каким-то обнадеживающим сигналом, скорее, в очередной раз напоминало о проблемах, связанных с Гали. На центральной улице мы увидели много новых и отреставрированных домов, которые, как нам потом рассказали, принадлежали криминальным авторитетам. Меня это поразило. В городах на подконтрольной Тбилиси территории такого нет.
Второй пункт нашей остановки был Илори, посещение этого поселка выдалось очень эмоциональным. Было больно видеть там русских солдат и офицеров. Было больно смотреть на то, как там пытаются уничтожить грузинские следы – эти грубо побеленные стены храма, уничтоженные грузинские фрески, а на этом фоне русские паломники…Я украдкой снимала этих людей, пока они не заметили и не пожаловались на нас служителям церкви. Мы шли из храма, и нас вновь окружала звенящая тишина. Мы наблюдали за тем, как природа пожирает здания, мы удивлялись оромным кустам, которые при близком рассмотрении оказывались заросшими травой и кустарниками домами. Еще запомнились огромные билборды с портретами «героев Абхазии». Создается ощущение, что такими воспоминаниями о войне абхазы будто бы пытаются удержать свою «независимость». Очень активно формируется образ врага, чего, кстати, нет в Грузии, несмотря на то, что у нас тоже очень почитают своих героев. В Сухуми некоторые люди догадывались, что мы из Грузии, в их взглядах мы замечали некую смесь страха и любопытства. Русские, кстати, вообще не обращали на нас внимания. Когда я добралась до своего дома, то из окна выглянула женщина, спросила, кто мы, почему пришли и для чего снимаем. Грозилась кого-то вызвать, но я все же решила оставить камеру включенной. Увидев свой родной дом, я словно отключилась, ничего не слышала и плохо помню, что происходило. Потом друзья, которые были вместе со мной, рассказывали, что та женщина догадалась, что перед ней хозяева дома. Потому у нее была такая реакция.
– Сложно ли было организовать и осуществить съемки в Абхазии? На административной границе? В одном из моментов фильма мы видим, как за людьми, пересекающими линию заграждения, гонится абхазский или российский пограничник, затем стреляет. Вы ведь подвергали себя опасности…
– Было очень сложно. У индустрии кино есть свои законы, но что-то пришлось осознанно или не осознанно пропустить. У нас был маленький бюджет для фильма, но мы так хотели его снять, что нас это не остановило. Мы использовали только 12 камер. Это громко звучит, но под некоторыми камерами подразуеваются самые обычные мобильные телефоны. Хотя, конечно же, у нас были и профессиональные камеры.
Исходя из мест, где мы работали, возникало много непредвиденных сложностей и проблем. Был момент, когда мне пришлось бежать и бросить телефон, потом мы долго его искали. В фильме мы не использовали этот момент. Я пошла с телефоном за группой людей, пересекавших административную границу, в итоге всех, кроме меня, арестовали российские военные. Было очень много технических задач, была огромная ответственность за людей, которых мы снимали. Старались снимать так, чтобы не были видны их лица, потому многие кадры, на которых их можно было бы индетифицировать, мы не использовали. Монтаж, кстати, занял очень много времени.
– Ты затронула очень чувствительную тему. Показав в фильме неконтролируемые переходы и тропы через административную границу, не считаешь ли ты, что абхазская сторона может усилить контроль над этими участками и более пристально следить за передвижением людей?
– Это вопрос, который долгое время не давал мне покоя. Мы много раз обсуждали это с людьми, которых снимали. Как я сказала, мы не показывали их лиц. Людей, которые видны на кадрах, идентифицировать невозможно. Но несмотря на это, риски остаются. Кстати, сами герои фильма об этом вообще не думали, может быть, не осозновали, что рискуют, но я об этом думала всегда, и старалась максимально их обезопасить. Что касается административной границы, то ситуация там ухудшается ежегодно, с каждым сентябрем, когда начинается сезон сбора и продажи орехов, и учеба в школах, пересекать линию разделения становится все сложнее. Колючек на заграждениях появляется больше, а ямы и рвы становятся все глубже и шире. В какой-то момент переход через административную границу открыт, в какой-то нет.
– Ты думаешь российские военные закрывают на это глаза?
– Они знают, что есть факты пересечения т.н. границы через неконтролируемые ими переходы и лазейки. В какой-то момент российские военные закрывают на это глаза, иногда может просто не замечают, допустимы все варианты. Но здесь самое важное и сложное то, что ты не знаешь, что с тобой случится, если тебя поймают. То есть, ты не знаешь, что тебя ждет, у тебя нет никаких гарантий. Ты даже не всегда можешь быть увереным в том, что тебе удастся заплатить российскому солдату деньги и откупиться. Все зависит от настроения военных. Никаких законов нет. Никакого контроля. Каждый вопрос решается индивидуально. Самое срашное – это неопределенность. Были случаи, когда арестовывали людей, которые возвращались домой избитыми, изнасилованными, униженными… много таких случаев.
– Расскажи о своих планах, намерена ли ты и далее поднимать эту тему, чтобы как-нибудь повлиять на наше общество, донести до него то, что там происходит?
– Я участвовала в ряде миротворческих проектов, во многих форматах, и чуствовала, что во мне все сильнее зреет протест ко всему, что не приносит никакого результата. На деле мы ведь видим, что между той же абхазской и грузинской молодежью образовался очень большой разрыв, нет опыта совместного сосущестования, вокруг которого можно было бы что-нибудь построить. При этом я не отказываю в помощи и сотрудничестве людям, которые работают в этом направлении, которые стараются использовать разные платформы. Например, институт Народного защитника Грузии, некоторые НПО.
После того как я увидела свой дом в Сухуми, я пересмотрела и переосмыслила очень многие вещи, наверно, потому что начала задумываться о то, что же представляет из себя дом человека, где он находится. Начала думать о собственных успехах и неудачах. Главное, к чему я пришла – это твердое желание и готовность противостоять войне. До этого я долго металась у «красной линии», проведенной мною же между желанием и нежеланием воевать. Я смотрела всякие военно-патриотические фильмы и это чувство автоматически просыпалось во мне. Но, когда я принималась рассуждать рационально, все было наоборот. Я смело говорю об этом, потому что я думаю, что многие люди ведут с собой такую же борьбу – война или мир. Однозначно могу сказать, что я против войны, в войне нет победившего. Тот, кто думает, что в войне есть победитель, тот и есть зло. Абхазская молодежь тоже проходит через такой же эмоционально сложный процесс, как и я, изгнанная из своего дома. Потому я думаю, что ни они не выиграли, ни я. После того, как я увидела свой дом, я поняла, что не хочу, чтобы другие люди проходили через это. Что случилось, то прошло, но такой дом уже не станет домом ни для кого, потому что люди, которые превратили четыре стены в уютное жилье, там больше не живут. Не по своей воле. Кто бы там сейчас ни жил, тень изганного хозяина навсегда останется в этих стенах. Когда я представляю, как если бы я пришла, изгнала или убила хозяина, захватила его жилье и поселилась в нем, то ясно понимаю, это не то, что можно оправдать. Я думаю, ни один благоразумный человек не хотел бы повторения этого ужаса.
Может быть, какой-нибудь политолог или конфликтолог и считает, что этот конфликт заморожен, остановлен, но я так не думаю. Я думаю, что война, к сожалению, продолжается. Более коварная и тяжелая, чем та, когда мы потеряли Абхазию. По обе стороны линии разделения идет одинаковый процесс – люди воюют. Воюют ветераны, политики, простые граждане, участники Женевских дискуссий. Люди продолжают воевать и не осознают, как много они теряют, как много страдают, не понимают, как повседневные абстрактные суждения и представления оторваны от реальности и сути конфликта.
Тамара Кавтарадзе, специально для Newcaucasus.com