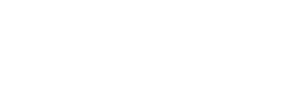Права заключенных в Грузии и России, наличие политзаключенных, условия содержания в тюрьмах, механизмы превенции пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы – об этом и другом рассказывает в эксклюзивном интервью newcaucasus.com директор «Института прав человека» (Россия) правозащитник Валентин Гефтер.
– Валентин Михайлович, вы беседовали с омбудсменом Грузии Георгием Тугуши. Какое мнение у вас сложилось о работе в Грузии механизма превенции пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы?
– Тугуши мне рассказал, кто входит в команду Национального превентивного механизма, (НПМ) посещающую эти места с таким мандатом: это сотрудники аппарата омбудсмена, региональных офисов омбудсмена в Зугдиди, Батуми и Кутаиси, а также специалисты – врачи, интерны и т. д., работающие по контракту. 10 % бюджета омбудсмена выделяется на оплату таких специалистов. Я спросил, могут ли НПО принимать участие в мониторинге, он ответил, что заключил временный контракт с «Ассоциацией молодых юристов», теперь они будут входить в команду НПМ. Но, кажется, они еще не начали ходить вместе.
Мы с ним обсудили украинский вариант, поскольку он сейчас помогает новому омбудсмену Украины – обсудили рабочие моменты. Про суды, в том числе по делам т. н. политзаключенных, я интересовался вскользь – в основном говорили про тюрьмы и про жестокое обращение в них, подробного разговора на другие темы не получилось.
Обсудили случаи смертей заключенных. Их в последние годы было в Грузии по 142, по 143 в год. По данным омбудсмена, чаще всего это естественные причины – болезни, но бывают и сомнительные случаи – например, когда эксперты НПМ обнаруживают следы побоев или когда в заключении о смерти написано: «от сердечной недостаточности» (типичный диагноз), и если этот диагноз им кажется сомнительным, тогда данный случай исследуется специально и более тщательно.
Я спросил: «А вот из Ксанской колонии жаловались вам 700 человек, написали недавно письмо, там были на это указания?» Г-н Тугуши ответил: «О смертельных исходах там прямо не говорилось, но я знаю, что четырех зачинщиков этого коллективного обращения перевели в Рустави и другие места». На вопрос: «Что с ними было дальше? Там их не побили?» омбудсмен сказал, что ему об этом неизвестно. Тогда я спросил по-другому: «А вот я слышал, что было несколько смертей, найдено 4 трупа, это как-то связано с этими событиями?» Тугуши сказал, что ему известно об одном из этих случаев, и охарактеризовал его так: «У нас есть сомнения: 21 год, здоровый парень, а написали, что сердце. Мы ждем итогов экспертизы». Но прямых доказательств того, что это именно те самые четверо из Ксанской колонии, ему подтвердить трудно.
Примерно так же «позиционирует» себя аппарат нашего омбудсмена во многих случаях сообщений о насилии в колониях; но когда имеет место коллективное возмущение или бунт в колонии, они выезжают и на месте чаще всего обнаруживают, можно сказать, вопиющее безобразие. Были ситуации, когда кара настигла виновных в насилии над заключенными – в одном случае осудят конкретного исполнителя, в другом – начальнику колонии дали изрядный срок по факту смерти зэков. Но немало случаев и с ложными жалобами или что-то выявляется только когда правозащитники, члены наших общественных наблюдательных комиссий либо сотрудники управления Уполномоченного по тюремной системе очень активно давят на местных тюремщиков, иногда с помощью регионального уполномоченного в данном субъекте Российской Федерации. Постоянно давить, смотреть документацию, приносить жалобы от людей – только тогда удается где-то что-то расследовать или хоть немножко прояснить. Сам по себе, без обращений и жалоб, институт омбудсмена нигде не работает. Но и наши неправительственные организации в одиночку мало что могут, потому что чиновники или не пускают их представителей в места принудительного содержания без специального мандата, или не отвечают на письма.
Вообще, механизм НПМ хорош тем, что сочетает в себе и то, и другое: омбудсменство и общественность. Вот у вас омбудсмен вроде как работает по ситуации в зонах с позиции общего мониторинга ситуации в них, а общественность ходит вокруг этих мест и бьет в набат. У нас иная картина: общественность в лице ОНК тоже ходит и кричит о безобразиях, но по закону о наблюдательных комиссиях эти негосударственные контролеры имеют всё же доступ в пенитенциарные учреждения, а потом пишут хорошие отчеты и доклады. По делу Магнитского, например, так разворошили целое «гнездо», много чего выяснили. Но у них часто профессионализма не хватает, средств не хватает, и. конечно, нет административного ресурса, чтоб не только туда попасть и кое-что выявить, но и повлиять на исправление ситуации и не допустить безнаказанности виновных. Поэтому именно разумное сочетание этих двух механизмов кажется оптимальным в наших странах, особенно в таких больших, как Россия и Украина. Но и у вас, если не воевать с омбудсменом, а настаивать на том, чтобы, как сказано в мандате НПМ, в его special groups, т.е. специальные группы, входили люди из НПО, то это было бы замечательно.
Тут не обязательно «шашечки», тут главное ехать*.
То есть среди этих специалистов, с кем омбудсмен заключает контракты, могли быть «наши люди»: врач, психолог, специалист по пенитенциарной тематике, еще кто-то. Если они имеют мандат от Уполномоченного по правам человека, то в команде будет человек, который сможет подчас более объективно взглянуть на происходящее, хоть и получая деньги за эту работу, но это же не лично от г-на Тугуши средства, это госбюджет оплачивает. Хотя некоторые мои хорошие знакомые из среды классических правозащитников мой конформизм, наверное, не приняли бы, находясь в состоянии конфронтации с представителями омбудсмена и обвиняя, как в недавнем случае**,
его людей, которые вели себя как минимум неэтично, когда они из Глданской тюрьмы вышли ночью, под утро, ничего не сказав собравшимся людям, родственникам, прессе… Это, конечно, неправильно – надо было поговорить с ними, успокоить и объяснить, почему с их точки зрения делать окончательные выводы пока рано. Я их понимаю, они, конечно, осторожнее себя ведут, чем многие из нас. Но если вы за рамки этого случая выйдете, то мне кажется, не производит г-н Тугуши впечатления «камня на пути» правозащиты. Нужно найти способ ввести в НПМ своих людей – может быть, не в тот отдел прямо, который называется «Превенция и мониторинг мест заключения», там у омбудсмена работает всего 6 человек, как он мне сказал, но есть же ресурс у спецкоманд НПМ – те самые спецы, интерны, региональщики… Я понимаю, что и среди них трудно найти тех, кому безоговорочно доверяешь, но какая-то возможность работать в рамках этого механизма, пользуясь этой «крышей», есть, не так ли?
У нас в России тоже далеко не все идеально. Думаете, Лукиным все даже среди правозащитников, не говоря уж о чиновниках, довольны? (Под Лукиным я понимаю аппарат) Федеральный омбудсмен – один на всю Россию, поэтому надо работать с региональными омбудсменами, с их и его аппаратами. Где-то есть контакт, где-то получается здорово, а когда-то приходится давить, а когда-то оказываются и правозащитники неправы. Нельзя быть только в оппозиции к «государевым» правозащитникам: где-то надо на них давить, а где-то, наоборот, используя общность цели, вместе идти и выявлять факты. Есть люди, которые считают, что зоны и «ментовки» – это места, где вообще ни одного нормального человека нет, где всегда будут только пытки, и что бы они там не говорили, они всегда врут. Есть такой подход. Но есть и другая парадигма – выявлять, верифицировать, делать объективные выводы, встречаться с ними, где-то «бузить», чтобы наказать какого-то конкретного изувера или сукиного сына, а в других случаях идти и добиваться, говоря: «Да, у вас объективно воздуха не хватает, там унитаз близко стоит к спальному месту или дубинку используют всякий раз».
Кстати, про электрошокеры интересный был разговор. Я спросил: «А на что они жаловались в Ксани, вот эти люди?» Г-н Тугуши говорит – на то-то и на то-то… «А на насилие жаловались?» – «Жаловались». – «На что именно?» – «Что неправомерно применяют запрещенное у нас электричество». – «Ну, наверно, электротоком не пытают?» – «Как у вас в Чечне?» – «Но в Чечне, – говорю, – в совсем другой ситуации было. Наверное, у вас имелись в виду электрошокеры, палочки со слабым электротоком – это все-таки не к гениталиям ток подводить под напряжением 220 вольт». И тогда на мой вопрос: «Ну и что выяснилось с электрошокерами?» омбудсмен ответил: «Я узнавал у администрации – они, с одной стороны, утверждают, что у них их нет вообще, а с другой говорят, что они их не используют». Занятно, потому что или нет вовсе, или не используют – все-таки «две большие разницы». Я говорю: «Ну что ж, надо выяснять ситуацию до конца, потому что зэки тоже не идеальны, они тоже могут приврать с три короба, но не бывает дыма без огня». Мы не стали развивать с ним этот сюжет – не мне его просвещать, как исследовать случаи применения шокеров. Но это интересная тема, потому что на Западе к этому относятся неоднозначно: например, в Штатах: власть за их применение, а правозащитники считают, что электрошокеры – это превышение допустимого уровня насилия над человеком. Я говорю сейчас не про то, кто прав, кто нет – я говорю про то, что надо выяснять, есть ли такое снаряжение или нет, применяют ли его, когда и зачем? Уверен, что пенитенциарные службы обязаны – у нас, по крайней мере, по закону – каждое использование серьезных, сильнодействующих средств регистрировать отдельным актом. Нет, конечно, если бунт или, наоборот, случайный инцидент, всё бывает – тогда другое дело… Но если регулярно используют в виде наказания или для устрашения – то их применение должно все-таки регистрироваться, контролироваться и строго регламентироваться.
Надо отметить, что омбудсмен выпускает спецдоклады по тюрьмам, спецдоклады по НПМ вообще – с 2010-го, по-моему, года. И еще один был по тюремной медицине спецдоклад. Я прекрасно понимаю, что одними докладами дело улучшить трудно, почти невозможно. Говорят, что вот доклады в его офисе пишут, а ничего не меняется. Ну, это не их вина, это общая беда, что ничего или мало что меняется, что омбудсмен мало что может.
Так, я его спросил: «Каково ваше влияние на парламент? УДО, помилование, иные законы?» Ответ был таков: «Я особенно не лезу во всякие комиссии, советы, хотя работаю, скажем, в Комиссии по помилованию». Но это, говорит, мало что дает: «Президент практически не применяет помилования. Мы, говорит, большое число людей предлагаем для помилования, а они…» Это как в России точно. Получается бесполезная работа, мартышкин труд. Мы сидим, смотрим дела, намечаем этих людей [к помилованию], а потом выясняется, что в результате ноль без палочки. Но по другим вопросам омбудсмен что-то может сделать. Так, по его словам, он выражает свое мнение по ряду законов, есть, например, право обращаться в Конституционный суд, и по конкретным жалобам… «Ну и каков результат?» – «Вот сейчас нечто поменяли в законодательстве, на днях еще отправили туда предложения или запросы»…
Подытоживая, скажу, что ваш нынешний омбудсмен далеко не худший среди многих омбудсменов на постсоветском пространстве. Другое дело, что почти все эти люди так или иначе вышли из системы, и им воевать изнутри с ней, особенно с наиболее ее ужасными «отсеками», как тюрьмы, полиция и т.д. – довольно трудно. Понимая это, я спросил г-на Тугуши: «А есть ли люди кроме вашего НПМ, тех, кто в special group по нему, кто и без вашего мандата может заниматься реальным общественным контролем в тюремной сфере?» Ответ был таков: «Раньше были комиссии [по пенитенциарным учреждениям], но их еще до нашего НПМ упразднили, так что неверно, будто это НПМ их вытеснил. Многие говорят, что я ввел НПМ, стал делать этот проект и из-за этого они перестали ходить в тюрьмы. Ничего подобного, они были упразднены еще раньше. И они были неэффективны – ни докладов, ни сообщений, ничего толком». По мнению Тугуши, НПМ более эффективен, если только он профессиональный, обученными людьми проводимый. В принципе, я с ним согласен. Но если в этом НПМ не будет совсем общественников – ничего не выйдет. Хотя и это не панацея. Вот у нас в наблюдательных комиссиях, после всех скандалов – кого-то не хотели пускать в ряде регионов, таких, где много зон и безобразий бывает немало – появились псевдо-общественники, и не получается от них освободиться, оставив только правозащитников, которые любят совать нос, куда те не хотели бы, ворошить осиные гнезда тюремного беспредела. То есть только тех, с кем приходится считаться и местному уполномоченному, и системе исполнения наказаний.
Многие правозащитники тоже ведь часто избегают острых тем и углов, связанных с полевой работой – посещениями тюрем и жалобами, особенно в форс-мажорных обстоятельствах типа того, что было или не было в Ксани… Юристам это отчасти, может, и простительно (если нервы слабоваты), но правозащитникам как-то не очень. Что делать? Тут может быть два выхода – воевать с ними, обличать за сотрудничество с властями и тюремщиками, или налаживать мосты, заставляя их идти на постоянное сотрудничество с набатной и обличительной правозащитой, такой, как Нана с Гелой, с журналистами и т.п. Я всё же за второе – как бы тяжко и безнадежно это ни казалось.
Обсудили немножко вопрос о степени насилия в разных местах содержания под стражей. Я спросил: «Где больше бьют – в зонах или в СИЗО?» Омбудсмен сказал, вроде бы в СИЗО больше, но это за счет того, что там более строгий режим. Вот в Кутаиси почти военный режим. Нельзя там телевизор смотреть громко, их сразу наказывают. В общем, он имел в виду, что, видимо, местные тюремщики, сотрудники СИЗО, в отличие от зон, более строги к рядовым, мелким нарушениям режима. «Но наказывают – значит, бьют?» Ответ: «Ну, бьют, но не пытают же». По-видимому, могут шокером обиходить или в ШИЗО посадить – видимо, он это имел в виду под наказанием или насилием.
Поговорили о медицине, в аспекте круга болезней. В общем, люди умирают, много болезней. От туберкулеза, от ВИЧ-СПИДа, даже от пневмонии, от всего прочего. Но есть и тяжелые заболевания типа рака и т.д. Я говорю: «У вас нет списка, по которому надо освобождать автоматически?» Он говорит: «Список есть – или через УДО, или напрямую по медицинским показателям могут комиссовать… Могут, но использовать боятся. Потому что, когда использовали, их обвиняли в коррупции». И это было, чего скрывать. Поэтому теперь маятник шарахнулся в другую сторону и вообще не освобождают по болезни. Я говорю: «А в СИЗО выпускают до суда, если тяжело болен?» Говорит: нет. И тут он сказал: «Мы сейчас внесли опять какое-то предложение в пенитенциарное ведомство, чтоб все-таки этот механизм работал. Сколько ж можно – эти 140 человек в год, чуть не каждые 2 дня умирает по человеку. Значит, надо вообще уменьшать количество тюремного населения, тем более больных». Я говорю: «И что?» – «Ну, пока еще реакции не было».
Мне кажется, с его приходом какая-то системность, упорядоченность в работе этого института появилась. Насколько повысилась эффективность с точки зрения защиты людей, спасения от смерти и болезней, сказать трудно. Он, конечно, акцент делает больше, я вижу, на системности, на охвате. Как они рассматривают индивидуальные жалобы, мы с ним не обсуждали – это отдельное. В судах они, видимо, работают. Я думаю, что в рамках НПМ он работает неплохо, надо только дополнять его общественными ресурсами, не оставлять это только на долю сотрудников и контрактников.
Что меня еще поразило? Он говорит, что они могут ходить не только в места заключения. Я специально спросил: «Как уполномоченный или как НПМ, т.е. как средство предупреждения пыток и жестокого обращения?» Он сказал: «Может, они и привыкли к визитам от имени уполномоченного, но мы можем ходить в любые воинские части, и в психбольницы, и в детские дома именно в рамках НПМ». То есть, в этом смысле у вас НПМ гораздо шире, чем тот, что в Европе – где он более специализирован на тюрьмах, на местах отбывания наказания.
– Про политзаключенных обмудсмен что говорил?
– Про политзаключенных он ответил: «Отдельно этим не занимаюсь». Я ему сказал, что у нас есть общественно-правовая экспертиза некоторых так называемых резонансных дел. Нам в России все твердят: «Это суд решает, суд решает», а кто будет контролировать или хотя бы верифицировать всю процедуру от обвинения до отбывания? Вот мы пошли по этому пути – отслеживать громкие дела. Он говорит: «Ну, это другое дело. Я суд, в общем, не контролирую по содержанию, хотя иногда провожу территориальный мониторинг – мониторинг работы судов определенного района, и что там выявляется, мы доносим [для общего сведения]». Я его спросил: «А кстати, кто главные правовики в исполнительной власти, с которыми вы контактируете? Есть ли у вас при президенте или при правительстве правовое управление? У нас есть при администрации президента, и мы с ними, так сказать, контактируем – где-то ругаемся, где-то спорим, где-то находим общий язык, но это наш такой вот визави». Он говорит: «Нет, у нас такого нет». – «А как «свой» человек в Высшем совете юстиции?» – «Нет, – говорит, – это совсем другое дело. Юстиция – это председатели судов, это назначение судей, это дисциплинарные наказания судей, я не хочу туда входить принципиально, потому что я им, наоборот, даю свое мнение по поводу отдельных судей. Если я буду туда входить, то получается…» Ну, понятно…
– Не хочет влиять?
– Не хочет участвовать. «Нет, я как раз хочу влиять, а так я и сам буду ответственным за их решения». Я говорю: «Ну, а при вынесении решений по отдельным судьям?» – «Нет, это нереально – тем более, там 80% судейских, их все равно не пересилишь. Я им только иногда даю свое мнение по поводу отдельных судей». Но по политзаключенным – он принципиально подчеркнул, что он не выделяет эту категорию.
– Омбудсмен отрицает наличие политзаключенных?
– Этого я у него не спрашивал, не знаю, что бы он ответил. Я сказал: «Мы выделяем такую категорию – политически мотивированные аресты, и я знаю, что и у вас это есть», он ответил, что специально этим не занимается. Вот всё, что он думает по этому поводу. Раз не занимается, значит, нет мнения. Я думаю, что по конкретным людям тем более его глупо об этом спрашивать в этой ситуации, раз он этим специально не занимается. Мы можем гадать о причинах, но я не счел нужным допрашивать-расспрашивать, раз человек этим не занимается.
– Сколько политзаключенных сейчас в России, по вашим подсчетам?
– Мы обсуждали недавно на пресс-конференции – есть разные мнения. Есть люди, которые считают, учитывая административные аресты, то есть «суточников» некоторых, которые получали до 15 суток, поэтому у них считается чуть ли не до 200. Я считаю, что если уж всерьез так говорить, строго в соответствии со всеми критериями, которые мы пытаемся доказать, я думаю, так от 30 до 50.
– А какие критерии существуют?
– Критерии описаны экспертами Совета Европы, это долгий разговор. Неважно, какие критерии, важно – какие категории. Когда мы писали президенту [России] в начале года, предлагая их освободить (через помилование или через пересмотр их дел в судебном порядке – разные есть механизмы), я сам разбил их на несколько категорий.
Там были бизнесмены, которых явно преследуют в интересах власти. Это некие группы крупного бизнеса типа ЮКОСа или другого, где явно виден не только коммерческий, материальный, но и институциональный интерес власти: наказать непокорного крупного бизнесмена, который, допустим, финансирует оппозиционное политическое движение или иногда просто не идет навстречу намекам властей, что нужно дать деньги на проведение какой-нибудь социально ориентированной кампании, иногда – прямо участвует в политике, как Ходорковский в начале двухтысячных. Мы не можем исчерпать все такие случаи, это, как говорится, открытый перечень. Это первая группа.
Вторая группа у нас небольшая. Это «ученые-шпионы». Там оставалось человек пять, сейчас два новых прибавилось, а один, наоборот, вышел на свободу. Они осуждены за разглашение государственной тайны.
Третья группа – политические активисты, участники оппозиционных акций. Там практически нет уголовных дел – там обычно административные наказания, штрафы. Сейчас они увеличились.
Есть немалая группа представителей радикальных движений, от лимоновцев до национал-радикалов и некоторых других. Ищут повод, находят – иногда подкинут что-то, иногда мелкое нарушение превратят в уголовное преступление.
Есть большая группа людей, о которых у нас споры с националистическим движением. Их осудили по ст. 282 УК РФ, за разжигание ненависти и вражды, но в комбинации с другими статьями. Они (националисты) утверждают, что их сторонники или вообще не разжигали никакой розни, или это в рамках свободы слова. Наши эксперты считают, что зачастую это уже переходит в конкретные угрозы отдельным людям, отдельным communities, и что на самом деле не все дела и не всегда фальсифицируются. Есть, например, такие экстравагантные случаи, как предположим, убийцы Маркелова и Бабуровой, Тихонов и Хасис, дело которых якобы было сфальсифицировано и ничего они не совершали, и, мол, поэтому они тоже чуть ли не политзаключенные. Всегда находятся сторонники осужденных, преследуемых, которые доводят дело до абсурда, этого не исключить.
Также есть случаи в регионах, когда сотрудники Центров МВД по противодействию экстремистской деятельности зачастую начинают искать на пустом месте, берут каких-то радикальных крикунов, осуждают по уголовной статье (чаще всего условно) и делают из них серьезных политзаключенных. Таких, я думаю, найдется несколько десятков.
– Есть у центров противодействия экстремизму какая-то принципиальная стратегия действий?
– К сожалению, нет. Вернее, она такая: найти побольше, чтоб оправдать свое существование, но это не стратегия. Цель – противодействие экстремизму, но поскольку в российском законодательстве «противодействие экстремизму» – совершенно безумная, резиновая дефиниция, то туда подпадают, наряду с реальным экстремизмом, скажем, национально-шовинистического толка, и разбитые стекла здания прокуратуры или местного ФСБ, и не очень опасные противоправные деяния. Сейчас читал в интернете известное дело «приморских партизан». Какая-то странная шайка – выдают себя за Робин Гудов – которая убивала полицейских. Их дело лежит в суде. Так украли дело! Пропало дело на прошлой неделе. Из краевого суда. Значит, идет следствие о пропаже – как это может быть? Это или свой человек, или что-то еще. В общем, замечательная история. Некоторые выдавали этих «приморских партизан» за таких борцов, так сказать, за счастливое прошлое, а также будущее и настоящее. Но таких групп очень мало, которые реально применяют насилие. Поэтому недаром мы вот в нашем определении – даже не о политзаключенных, а об узниках совести – написали, что если люди наносят символический ущерб, то это нельзя считать реальным насильственным преступлением. Например, царю усы пририсовали – неважно, прошлому царю или настоящему. Вот, например (но это уже не о судебных преследованиях) – на днях в каком-то субъекте федерации разогнали демонстрацию, на которой был якобы антиконституционный лозунг: «Путин, уходи!» Ну явная самодеятельность местных держиморд, потому что, в общем-то, в больших городах уже все понимают, что запретить ничего нельзя. То есть, у борьбы с экстремизмом нет единых точных представлений…
– А есть ли тенденции?
– Тенденции есть. Есть тенденции, и есть не очень квалифицированные люди, особенно на местах. Люди, которые привыкли работать с организованными преступными группами, считают, что раз люди там попались на крючок – ну мелкие бандюганы, группка бандюганчиков – то их надо любой ценой довести до осуждения, всё! Подложить – так подложить, они ж плохие. Как говорил этот самый… Жеглов, раз они плохие, то можно. А ведут дела часто те самые люди, которые раньше были РУБОП. РУБОП потом ликвидировали, и многих из них перевели в центры противодействия экстремистской деятельности. Они так же рассуждают, только на новом месте. Так они обращались с бандитами начала 90-х, а теперь они так рассуждают о тех, кого понимают под экстремистами: «Разобраться, что он там, призывал к насилию или к свержению режима – всё это так сложно, это такая умственная деятельность, а экстремизм – понятие широкое, давай их лучше упечем». А иногда: «Перехватим этого типа где-нибудь, когда он едет на какую-нибудь демонстрацию (в Москву, предположим), как лимоновцам делали, сутки его подержим – еще немножко помутузим или подержим в напряжении, чтобы он отказался». Обычные методы, которые они применяют в борьбе с криминалом. Но почему этого не нужно делать с идейно озабоченными людьми, даже если их идеи не очень хороши – это до них не доходит.
– Это правда, что существуют списки людей, на которых нужно завести уголовное дело в связи с московскими событиями 6 мая?
– 6 мая? Нет, не думаю. Даже если есть такие списки, то они нормальные: 6 мая, формально говоря, было насилие. Со всех сторон. И со стороны полиции, и со стороны демонстрантов. Значит, вообще говоря, в таких случаях, если это серьезное насилие, которое уже тянет на уголовное преступление, вам нужно время, чтобы идентифицировать этих людей, найти их. Отсюда появляется понятие «списки». Сам по себе список – это еще не значит, что он априори составлен по принципу: «Ох, не люблю я… там Навального или Яшина, Иванова, Петрова, Собчак…» Правда, такие списки есть. Я недавно читал, например, что есть списки, в основном, даже не оппозиционеров, не лимоновцев, а национал-радикалов, которые ходят на эти демонстрации в масках. Сейчас запретили, а до этого они ходили с закрытыми лицами, в военизированном виде, и ведут себя там по-всякому, но угрожающе. И вполне возможно, что эти следователи стали широко с помощью этих центров противодействия экстремизму искать, брать в оборот этих людей и сличать: можно их идентифицировать с конкретным событием или нельзя? Я в этом, честно говоря, с профессиональной точки зрения ничего не вижу такого. Другое дело, чтоб это а) было в рамках закона и процессуального кодекса и б) чтоб потом не было фальсификаций. Чтоб не было просто навешать на кого-то, лишь бы до кучи. Суд должен проверять или прокуратура. Но не проверяют. В этом вся наша беда – не контролируют они этих всех следаков и милиционеров-антиэкстремистов.
– Я читала о случаях, когда в списки попадали люди, абсолютно непричастные к радикальным движениям…
– Конечно, бывает, конечно. Я не думаю, что команда дана сверху – найти к такому-то числу любой ценой 25 человек среди таких-то или таких-то и осудить, но это механизм, работающий с большими сбоями…
– Я читала о списке в 600 фамилий.
– 25 – это я условно назвал. Может быть и 600, но тогда большая демонстрация была – 20, 30, 40 тысяч народу… 600 смешно, но если нападало там, положим 15, то как это обычно расследуют – сначала берут в оборот большой массив людей, из них начинают выявлять… Важно, объективно ли они работают и не начинается ли там фальсификация – арестовать данных людей или заданное число людей, чтобы добиться результата. Там был один человек, которого задержали, потом выпустили под подписку. Он из «Другой России», но, видимо, не принимал участия. Его выпустили, то есть решили, что по крайней мере, до суда может быть следствие… Там и национал-радикалы. Там было несколько человек, которые, вроде бы, есть свидетельство, что в тот момент были в другом месте – не на Каменном мосту. Какие бы плохие люди ни были, обязаны их проверить, и если не сходится – что ж, придется освобождать. Работают ли они честно и объективно, вот в чем вопрос. Но сама процедура у меня, лично у меня, не вызывает раздражения. Потому что как иначе быть с уличным насилием?
Кстати, мне рассказывали, что на днях иванишвилевцы приехали в поселок беженцев, но еще не встретились даже с беженцами, как приехала группа местных чиновников на машинах под эгидой Национального движения, и стали кидать камнями в это собрание, госпитализировано 13 или 15 человек, а также, что велась фотосъемка, видеосъемка, даже кружками обведены люди, которые кидали камни. Они идентифицированы прямо по видеосъемке, но, как я понял, нет официального расследования. Вот это надо спросить – есть ли официальное расследование. У нас наоборот – чуть не каждый день 100 раз заявляется на разных уровнях: «Ведется расследование этого эпизода по такой-то статье». Хотя бы можно прийти и спросить: «Вот вы вели расследование событий такого-то дня. Чем оно кончилось? Вы не возбудили дело или возбудили, но потом закрыли? И какие последствия?»
– Какова оптимальная стратегия для некоммерческих организаций после принятия поправок к закону об НКО?
– Я считаю, что наилучший выход – это просто никому не регистрироваться. Ну, из тех, кто правда не занимается политикой – в чистом виде политикой, в классическом смысле слова, с борьбой за власть, с участием в выборах – никому не регистрироваться. Вот пусть те, кому это надо, доказывают, что некоторые НПО, получающие иностранные средства, занимаются политикой и поэтому должны себя назвать иностранными агентами.
– То есть бойкотировать этот закон?
– Делать вид, что его нет. Первая стадия там какая? Мы сами должны заявить, что мы иностранные агенты. Но мы же не считаем, что мы такие. Это даже не бойкот.
Юлия Адельханова специально для newcaucasus.com
Фото с сайта http://veved.ru
————————————————-
*Был такой анекдот:
Человек останавливает машину.
Водитель: Вам куда?
– Мне туда-то, а вы такси?
– Садитесь.
– А вы такси? Так где же ваши шашечки?
– Так вам шашечки или ехать? (Прим. авт.)
————————————————-